Немного истории
Омское Прииртышье и город Омск оставили свой след в истории российской детской литературы.
В 1992 году Россия впервые познакомилась с книгой писателя-эмигранта Бориса Григорьевича Пантелеймонова «Приключения дяди Володи», и омичи смогли прочитать в ней такие взволнованные строки о своем родном крае:
«У Марка Твена - помните путешествие бродячего театра-баржи по Миссисипи? Помните эту поэзию реки, капитанов, содружество артистов, трогательную наивность публики? Кто читал – разве забудет?
А вот история другого «капитана», моего дяди. Но не на реке Миссисипи, а на реке Таре, что впадает в Иртыш …
Тара впадает в Иртыш там, где город Тара. А мы жили в селе Муромцеве, верст двести по реке от города Тары. Село Муромцево не очень большое. В центре, на базарной площади, наш дом — два этажа и мезонин (жутко было глядеть с такой высоты на площадь!).
 |
Это случилось в мае. Паромщик,— глубина и ширина реки давали ему на это право,— вознесся в своей гордыне и недоступности и казался нам божеством. На берегу бродили гуси и желтые, как из окрашенной ваты, птенцы. Мы купались, не отходя и двух саженей от берега: Тара безудержно несла свои воды, крутя омуты и вихри. Но все было мирно и спокойно, так же, как не сто, а сотни лет назад.
И вдруг — рев! Невероятный рев, рев невозможного, невиданного, неслыханного творения. Рев потрясал воздух. На всю реку, на все Муромцево, за Муромцево и дальше.
Коровы, выпучив глаза, задрав хвосты, опрокидывая подойники, рванулись вдаль. Телки…, задрав морды, кинулись, не разбирая ни забора, ни ворот, ни лавок. Собаки, поджав хвост, полезли в будки. Старухи закрестились, а бородатые мужики, засучивая рукава, выскакивали на улицу.
А рев не умолкал.
И вот, за лукою Тары,— в первый раз со дня сотворения мира и всемирного Сибирского потопа,— показался пароход.
 |
Окрашенное в желто-малиновый цвет, выкатывало из-за поворота страшное чудовище (по совести — большая лодка с трубой, а сбоку строчат плицы колес). Из трубы валит густой дым, а на носу — Боже мой!— на носу дядя Володя. Величественный, на голове фуражка с позументом…»
(Б. Пантелеймонов «Святый Владимир»).
 |
Детство ученого-химика Б.Г. Пантелеймонова (1880(88?) - 1950) прошло в окрестностях «села Муромцево, Бергамацкой волости, Тарского уезда». Оказавшись в эмиграции, последние 4 года жизни он посвятил литературному творчеству и успел воссоздать мир своего далекого детства в ярких и поэтичных рассказах «Святый Владимир», «Дедушка Дигби», «Избрание царя Михаила Федоровича», «Звериный знак» и др.
Всего несколько авторов, как на машине времени, могут перенести юных омичей в прошлое родного края. И в этот узкий круг сегодня можно включить имя нашего земляка Бориса Пантелеймонова.
«Читателям в Пантелеймонове дорого: неподдельная, редкая душевная бодрость и какое-то, столь же неподдельное, органически доброе отношение ко всему живому… Он действительно и естественно отмечает свою связь с природой и миром и связи этой открыто радуется».
Георгий Адамович
Отдельной страницей омский край входит в биографии и таких известных детских писателей, как Николай Дубов и Иван Ермаков.
 |
Николай Иванович Дубов родился в Омске 22 октября (4 ноября) 1910 года, в нашем городе прошли первые 12 лет его жизни. Сын рабочего и сам в юности рабочий, Николай Дубов писал свои книги о том, что «детское горе» не «летний дождь – отшумел и снова солнце…» (повесть «Беглец»), что «плохо быть маленьким. Трудно. И не только потому, что тебя всякий обидит… Главное – столько непонятного…»: непонятно, «где плохие люди, а где хорошие, кому верить, кому нет, где правда, а где обман и что надо делать…» (повесть «Мальчик у моря»). Писатель откровенно признавался: «Все мои книжки продиктованы состраданием к детям, желанием помочь им…»
«Есть книги, которые, прочитав однажды, не забудешь всю оставшуюся жизнь. Ибо рассказанное в них - чья-то судьба, которая потрясает. В повестях Н. Дубова живут реальные герои, со своими проблемами и жизненными трудностями. И что важно – это проблемы подростка, который хочет ощущать себя человеком, иметь свое достоинство, не быть униженным и обиженным взрослыми».
Из отзывов о творчестве Н.Дубова
Что связывало детского писателя Ивана Михайловича Ермакова (1924-1974) с городом Омском, заставил вспомнить 70-летний юбилей областного театра куклы, актера и маски «Арлекин». Общий интерес к истории театра привлек внимание и к тому факту, что в 1939 году в его труппу был принят молодой актер Иван Ермаков.
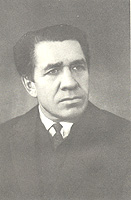 |
Детство Ивана Ермакова прошло в деревне Михайловке Казанского района Омской (ныне Тюменской) области. Актерский дар рано проявился в мальчике, который уже в 15 лет, после окончания 7-го класса, уехал в Омск и начал работать в театре. В годы Великой Отечественной войны будущий писатель был курсантом 2-го Омского пехотного училища, отсюда он ушел на фронт.
После войны Иван Михайлович Ермаков жил в тюменском крае, там окреп и расцвел его литературный талант, там рождались его сибирские сказы. Но интерес к живому народному слову возник у писателя еще в детстве, и этим словом он всю жизнь выражал любовь к родной зеленой земле, к своей второй матери – Родине всемилой нашей:
«Родная мать… песенки над твоей колыбелькой пела, сладким молоком вскармливала, имечко дала, русую головушку расчёсывала, а стоило тебе сделать первый шаг, как вторая мать – земля ласковая – подошевки твои розовые целовать принялась. Первая в погремушку гремит, а вторая голубую стрекозу на мизинчик тебе садит. Ты ее изловить хочешь, а она – порх! И запела крылышками. И поманила тебя… «Иди-ко, голубок, гляди-ко, голубок, много див у твоей Зелёной Матушки про тебя наготовлено. В грудку - дыхание свеженькое, сквозь цветы да мяты процеженное. Животу да язычку-лакомке – земляники, малины да любой сладкой ягоды, глазам – жар-птицы, полянки лесные, ушам – соловеюшки звонкие». Кропят голову твою чистые дождички, мужаешь ты под её резвыми громами, растёшь, крепнешь, зорче становятся глаза твои... Вот у первой матушки и морщинки на лице обозначились, и седые струнки по косам прянули, а вторая, что ни год, всё моложе да красивее перед глазами твоими является. Цветёт она лугами, зеленеет лесами, порхает красной птичкой, снуёт весёлой рыбкой, прядает вольным зверем – солнышко, звезда и радуга её охорашивают, синие ленты рек её украшают.
И все это – от голубенькой стрекозки до молоденькой апрельской зорьки – для радости глаз твоих, для тихого ровного счастья твоего цветет, человек».
(И. Ермаков «Голубая стрекозка» )
 |
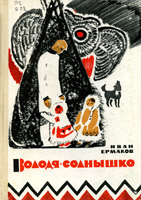 |
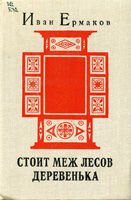 |
«Словом его всяк заслушивался. Обыкновенная вроде бы сибирская речь, а как зазвучит со страниц его книжек речь-реченька, как польется серебряным родничком — волшебство, да и только!»
Зот Тоболкин об Иване Ермакове
Известный поэт Роберт Рождественский (1932-1994) вписал свое имя в историю детской литературы единственной книгой – сборником стихов, посвященных внуку, под названием «Алешкины мысли» (М., 1991). Поэт наблюдает за первыми шагами мальчика в этом мире и афористично выражает в слове его мысли и переживания:
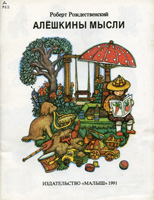 |
|
Мне на месте не сидится. Мне – бежится! Мне – кричится! Мне – играется, рисуется, лазается и танцуется!..
Жду уже четыре дня, кто бы мне ответил: где я был, когда меня не было на свете?..
Я иду по хрустящему гравию и тащу два батона торжественно. У меня и у папы правило: помогать этим слабым женщинам… |
«Первые детские впечатления» самого Роберта Рождественского связаны с нашим городом Омском, где он жил с 1934 по 1944 год:
«Их довольно много. Но самое большое – война.
Я уже кончил первый класс школы и в июне сорок первого жил в пионерском лагере под Омском. Отец и мать ушли на фронт.
 |
Даже профессиональные военные были убеждены, что «это» скоро кончится. А что касается нас, мальчишек, так мы были просто в этом уверены. Во всяком случае, я написал тогда стихи, в которых – помню – последними словами ругал фашистов и давал самую торжественную клятву поскорее вырасти. Стихи были неожиданно напечатаны в областной газете (их туда отвез наш воспитатель). Самый первый гонорар (что-то около тринадцати рублей) я торжественно принес первого сентября в школу и отдал в Фонд обороны. (Наверно, это тоже повлияло на благоприятный исход войны.) Клятву насчет вырасти было выполнить довольно сложно. Вырасталось медленно. Медленнее, чем хотелось. Война затягивалась. Да и росла она вместе с нами. Для нас, пацанов, она была в ежедневных сводках по радио, в ожидании писем с фронта, в лепешках из жмыха, в цветочных клумбах на площади, раскопанных под картошку».
Наверно, вспоминая об Омске, Роберт Рождественский через много лет сочинил свою песню «Билет в детство»:
 |
| Дом по ул. Либкнехта, где в детстве жил Р. Рождественский |
|
Где-то есть город, тихий, как сон. Пылью тягучей по грудь занесен. В медленной речке вода как стекло. Где-то есть город, в котором тепло. Наше далекое детство там прошло…
|
В начале 60-х годов ХХ века, с момента возникновения в нашем городе писательской организации, литературное творчество для детей стало все больше привлекать внимание омских профессиональных литераторов.
 |
Иван Павлович Яган родился в 1934 году в деревне Байдановка Таврического района Омской области, и первые его повести питала свежая память о военном детстве, о горестях и маленьких радостях долгих дней войны. И вот, наконец…
«…Война кончилась!
Дома бабушка достала из сундука красную наволочку, распорола ее, и мы вместе прикрепили полотнище к длинной березовой жердине. Толстый конец жерди воткнули в неглубокую ямку возле хаты, потом я, забравшись на крышу, прибил ее гвоздем к торцу матки. Древко получилось в два раза выше нашего жилища. Пока мы справились с этой работой, над другими крышами тоже появились флаги. А к вечеру в деревне не было ни одной хаты, над которой не трепетал хотя бы маленький красный флажок. Делали их из чего придется: из платьев и рубах, из наволочек. У кого не было совсем ничего подходящего, красили белые куски материи свекольным соком.
Я почти весь день вертелся на улице и смотрел на флаги… Что они значили для меня? Что значило слово «победа»? Победа – это скоро вернется отец. Победа – это вернется Петька. Победа – это мы будем строить новый дом…
Я радовался. А бабушка плакала».
(И. Яган «Когда я был мальчишкой»)
 |
 |
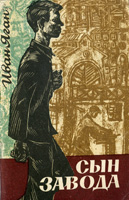 |
Сегодня Иван Павлович Яган живет в Кургане и более 30 лет возглавляет писательскую организацию этого города.
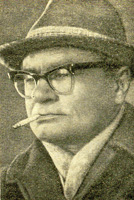 |
Писатель и скульптор Петр Петрович Карякин (1925-1976) сам прошел дорогами войны, был тяжело ранен. Но к сочинительству его подтолкнула… охота. Петр Петрович вспоминал: «В детстве я ходил с отцом на охоту, у нас всегда было много собак… Первые рассказы я написал об охоте, и в каждом рассказе с героями-охотниками действовала собака».
«Глядя на Мурзика, посторонний человек скажет:
- Какая смешная собачонка! Зачем такую держать? Напрасно только хлеб переводить!
Но это не так. Мурзик до хлеба небольшой охотник, он мясо любит…
А с виду Мурзик и впрямь неказист.
Ноги короткие, кривые, голова крупная, с длинной мордой и с большими обвислыми ушами, похожими на кусочки бархата. Хвост гладкий, прямой. Мурзик из породы такс – «норовая» собака. С ним можно охотиться на крыс, барсуков, лисиц…
Мурзик очень любит ходить на охоту…
На полях всюду виднеются холмики нарытой земли. Около них норы. А в них живут суслики. Особенно много нор там, где стоят скирды…
Но вот собака всунула морду в нору, насторожилась, ее вытянутый в струнку заостренный хвост начинает мелко подрагивать. Ага! Есть суслик! …Мурзик, быстро работая ногами, разрывает нору. Рыть ему легко. Своими широкими, сильными, как у крота, лапами он, словно лопатками, выбрасывает землю. Все равно – на пашне или на луговине – он роет быстро. Когти-то у него крепкие! Но до конца разрывать ни к чему. Петя уже бежит за ведром. Запыхавшись, он переводит дух и льет воду в норку. …И вот нора полна воды. Вдруг оттуда быстро-быстро забулькали пузырьки, и на поверхности показалась голова суслика…»
(П. Карякин. «Мурзик»)
Человек и собака в рассказах Петра Карякина преданно дружат друг с другом. На фронте солдат вынимает собаку из горящего дома, а та в бою отвлекает на себя немецкий танк и спасает хозяина от гибели (рассказ «Дозор»). Мальчик подбирает выброшенного щенка, и в трудную минуту подросший пес сражается за своего хозяина с волками (рассказ «Санька и мушкет»).
 |
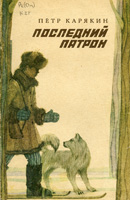 |
Омский писатель Петр Петрович Карякин оставил о себе память как о человеке доброжелательном, общительном, компанейском, с душой нараспашку.
«Петр Петрович любил детей и много писал для них.
Любил он и «братьев наших меньших» - собак. В разное время у него были и русская овчарка, и борзая, и фокстерьер, и дог, и северная лайка. Он хорошо знал их повадки, много слышал о собаках от охотников.
Скульптор Карякин и на бумаге словами зримо лепит своих четвероногих героев…»
В. Полторакин